blog gazeta
RAMIZ NETOVKIN: утраченный и обретенный Крым.
Городская атмосфера старого Крыма, навеки закупорена в работах Рамиза Нетовкина. Он будто ученик средневековых мастеров - зарисовывал природу так, чтобы передать поколениям в миру, где еще нет всех этих фотокарточек. И это все настолько канонично по форме, но свободно в исполнении, что по тончайшим деталям его пейзажей можно уловить тот особый трепет вековой культуры. Давайте попробуем заглянуть в этот мир вместе?
Персональная выставка памяти Рамиза Нетовкина представлена в пространстве музея Zolaman, где в последние годы проходят все значимые выставки современного искусства. И если зачастую они размещаются внутри музея, то эта выставка начинается задолго до первого зала. Уже на пороге музейного дворика мы будто оказываемся внутри образного мира художника. Архитектура, артефакты, природа — это не только источник вдохновения, но и органичная часть его визуального языка. Двигаясь по узким дорожкам дворика, мы, зрители, словно вторим пути художника, ходившего по улочкам крымских городов в поисках вдохновения.
А вдохновение уловимо, едва вы ступите в стены малого выставочного зала. Здесь вас встретят бережно сбереженные и искусно обрамлённые картины — будто приглашающие отправиться в путешествие по полуострову. И гид в лице Рамиза Нетовкина не даст вам упустить ни одной важнейшей детали аутентичного Крыма — с правильной высотой минаретов, линиями старых дюрбе и архитектурой сел.
А вдохновение уловимо, едва вы ступите в стены малого выставочного зала. Здесь вас встретят бережно сбереженные и искусно обрамлённые картины — будто приглашающие отправиться в путешествие по полуострову. И гид в лице Рамиза Нетовкина не даст вам упустить ни одной важнейшей детали аутентичного Крыма — с правильной высотой минаретов, линиями старых дюрбе и архитектурой сел.
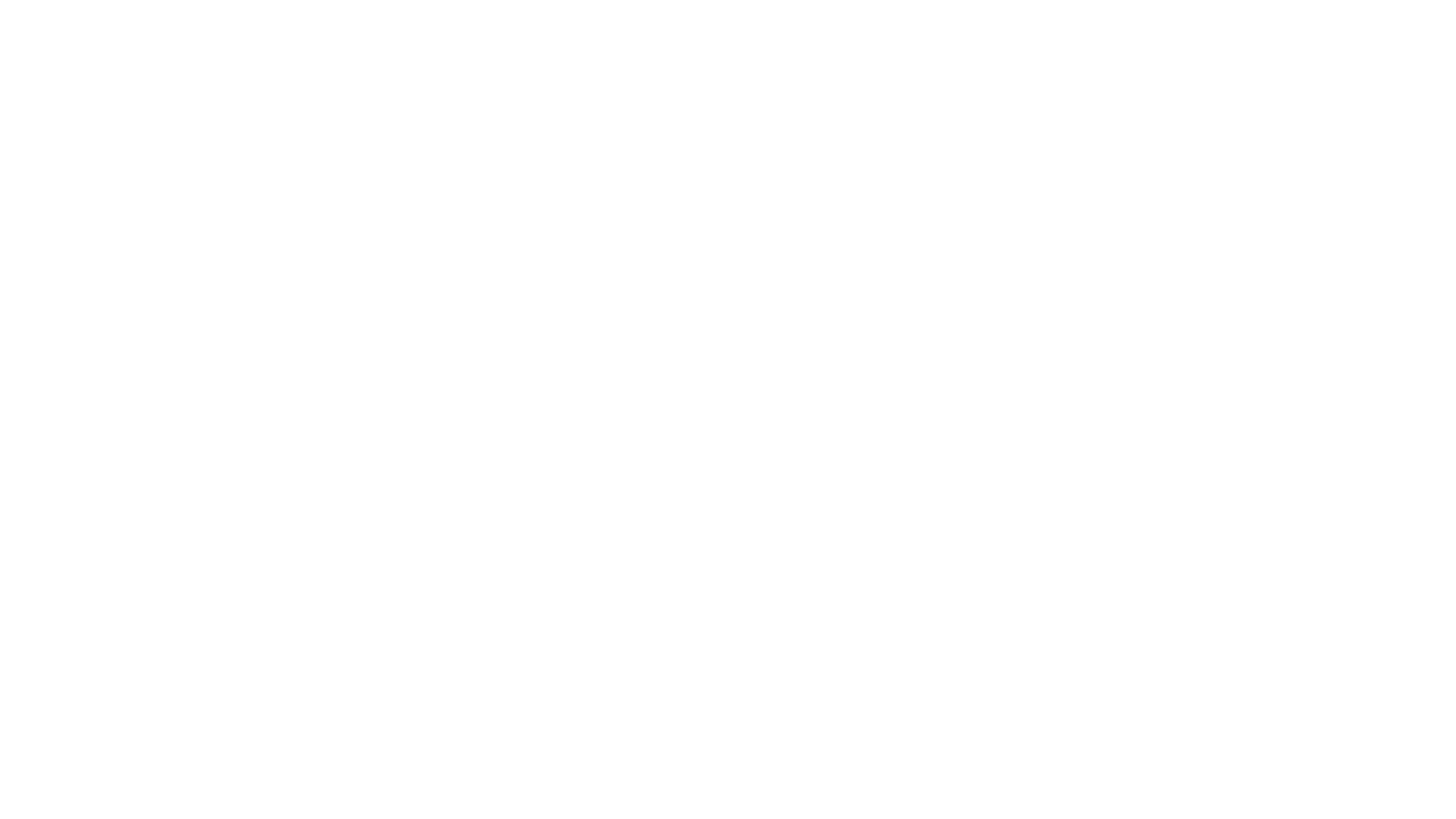
В проступающей тонкой дымке цвета одним из первых вы заметите город, который называют Дворцом садов. В картине «Восточный городок» (2008) — одном из характерных произведений позднего периода — художник представляет знакомый всем Бахчисарай с немного неожиданного, не шаблонного ракурса. Он позволяет взглянуть на него — и себе, и нам — не как на древнюю столицу, а как на обычный город, очевидно имеющий свою историю, но освобождённый от оков историзма. Городок, по улицам которого некогда неспешно ходили Гераи, Челебиджихан, Гаспринская и будучи детьми бегали наши къартлар.
Особую смелость и неповторимость картине придаёт цвет. Если бы старые чёрно-белые фотокарточки Крыма вдруг обрели краски, то их палитра, несомненно, была бы такой же — по-юношески яркой и в то же время противоречиво сдержанной. Как и вся крымскотатарская культура.
Столица продолжает жить свою почтенную жизнь в сотнях работ художника. В 1990-х Нетовкин посвятил Бахчисараю целый альбом графики. В этих работах он запечатлел атмосферу узких квартальных улочек, архитектурный ансамбль и памятники, веками хранящие в себе нашу историю. Чуть позже художник скажет, что больше не хочет писать Бахчисарай: он утратил свой дух и уже совсем перестроен. Довольно колко он подмечает, что перестроен нами же — потерявшими гармонию со своей культурой.
Особую смелость и неповторимость картине придаёт цвет. Если бы старые чёрно-белые фотокарточки Крыма вдруг обрели краски, то их палитра, несомненно, была бы такой же — по-юношески яркой и в то же время противоречиво сдержанной. Как и вся крымскотатарская культура.
Столица продолжает жить свою почтенную жизнь в сотнях работ художника. В 1990-х Нетовкин посвятил Бахчисараю целый альбом графики. В этих работах он запечатлел атмосферу узких квартальных улочек, архитектурный ансамбль и памятники, веками хранящие в себе нашу историю. Чуть позже художник скажет, что больше не хочет писать Бахчисарай: он утратил свой дух и уже совсем перестроен. Довольно колко он подмечает, что перестроен нами же — потерявшими гармонию со своей культурой.
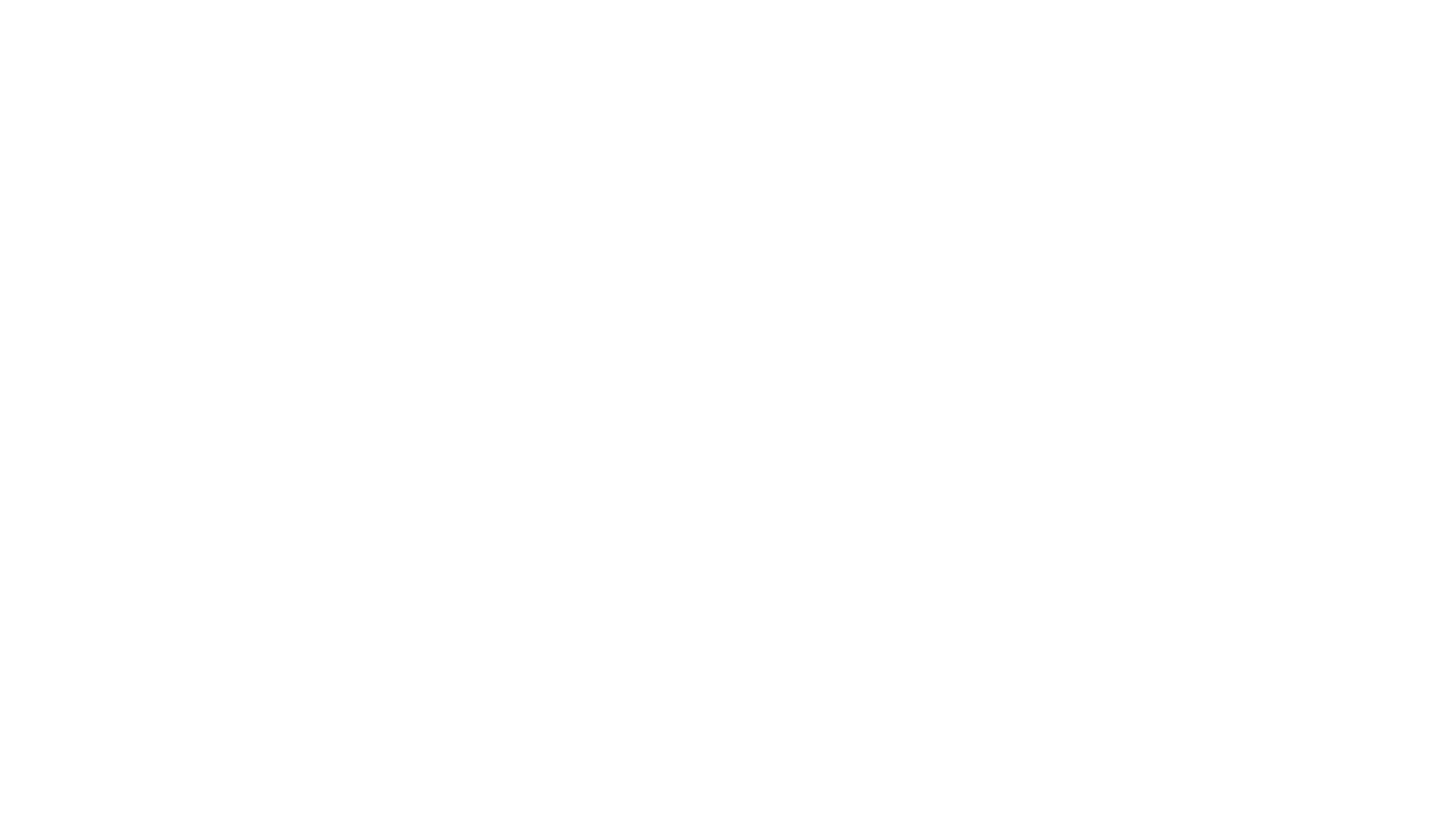
Художник не симпатизировал цвету и лишь изредка использовал полупрозрачные тона краски — как некое сюжетное предисловие. К примеру, в работе «Ступени Бахчисарая» (1993) акварель становится не просто техникой — она превращается в метафору исчезновения. Размытые контуры в глубине композиции буквально стирают очертания старого города, показывая, как память уходит, а облик Бахчисарая становится всё менее узнаваемым.
На переднем плане — каменные ступени, ведущие между старыми домами, выстроенными вдоль долины. Этот архитектурный элемент — одна из характерных черт кварталов Бахчисарая, построенного на склоне между ханскими садами и стоящим у реки дворцом. Неровные ступени, уходящие в перспективу, будто подталкивают зрителя к движению внутрь картины — но путь этот ведёт уже в пустоту.
В этой работе Нетовкин наглядно изображает, как исчезает архитектурная память Бахчисарая, изо всех сил удерживая её. Он будто кричит нам о том, как стирается этот узнаваемый облик города, размывается идентичность и сколь велика эта утрата. Картина становится визуальной хроникой ускользающей архитектуры и художник еще не раз вернется к этой технике в других сюжетах.
Такой же атмосферой наполнена и работа «Феодосия» в холодных синих оттенках, где одно чешме становится знаком сотен покинутых источников по всему Крыму.
На переднем плане — каменные ступени, ведущие между старыми домами, выстроенными вдоль долины. Этот архитектурный элемент — одна из характерных черт кварталов Бахчисарая, построенного на склоне между ханскими садами и стоящим у реки дворцом. Неровные ступени, уходящие в перспективу, будто подталкивают зрителя к движению внутрь картины — но путь этот ведёт уже в пустоту.
В этой работе Нетовкин наглядно изображает, как исчезает архитектурная память Бахчисарая, изо всех сил удерживая её. Он будто кричит нам о том, как стирается этот узнаваемый облик города, размывается идентичность и сколь велика эта утрата. Картина становится визуальной хроникой ускользающей архитектуры и художник еще не раз вернется к этой технике в других сюжетах.
Такой же атмосферой наполнена и работа «Феодосия» в холодных синих оттенках, где одно чешме становится знаком сотен покинутых источников по всему Крыму.
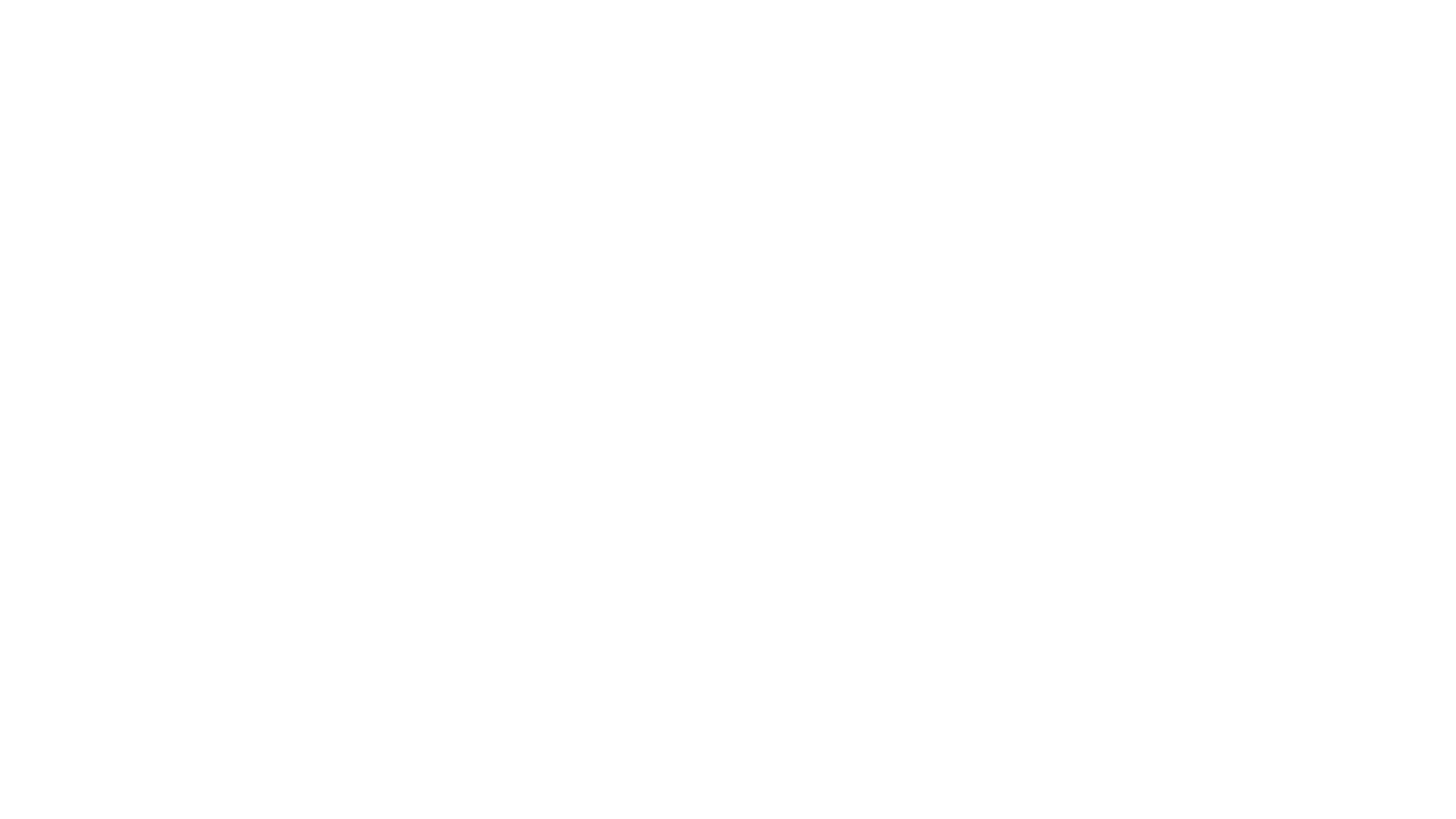
На открытии выставки с одной стороны слышались разговоры: «Впервые вижу акварели Нетовкина», «А он работал в цвете?», — а с другой давние поклонники спокойно приобщали его акварель к графике, принимая её не как основополагающий, а как редкий инструмент его творчества. Рассматривая одну из работ в цвете, подписанную 1990-ми годами, стоящий рядом мужчина внезапно обратился ко мне: «Это ошибка, не работал Рамиз тогда так акварелью». И действительно, в тот же миг мы обнаружили на самой работе дату 2010 года с подписью автора. Эта случайная ошибка подчеркнула тонкие отличия разных периодов творчества художника — детали, которые открываются лишь внимательному зрителю.
Мы все знаем Рамиза Нетовкина как величайшего крымскотатарского графика. И этот выдержанный стиль и сформированный авторский почерк, мы наблюдаем на протяжении всего периода его творчества. В то время как зачастую художники проходят через череду поисков, экспериментируя с техниками и формами, чтобы приблизиться к себе, Нетовкин с ранних лет творил в том стиле, который мы теперь называем его именем. Родившись в Узбекистане, он познавал Крым со старых черно-белых открыток 1930-х годов и рассказов своей депортированной семьи. Однажды он скажет, что именно родители наградили его этим "болезненным" взглядом на Крым. И вернувшись, он вновь увидит его таким же черно-белым. Потому что здесь, ребенка встретил не богатый Дворец садов, здравница или излюбленный всеми курорт, а разбитый чужой родной дом.
Мы все знаем Рамиза Нетовкина как величайшего крымскотатарского графика. И этот выдержанный стиль и сформированный авторский почерк, мы наблюдаем на протяжении всего периода его творчества. В то время как зачастую художники проходят через череду поисков, экспериментируя с техниками и формами, чтобы приблизиться к себе, Нетовкин с ранних лет творил в том стиле, который мы теперь называем его именем. Родившись в Узбекистане, он познавал Крым со старых черно-белых открыток 1930-х годов и рассказов своей депортированной семьи. Однажды он скажет, что именно родители наградили его этим "болезненным" взглядом на Крым. И вернувшись, он вновь увидит его таким же черно-белым. Потому что здесь, ребенка встретил не богатый Дворец садов, здравница или излюбленный всеми курорт, а разбитый чужой родной дом.
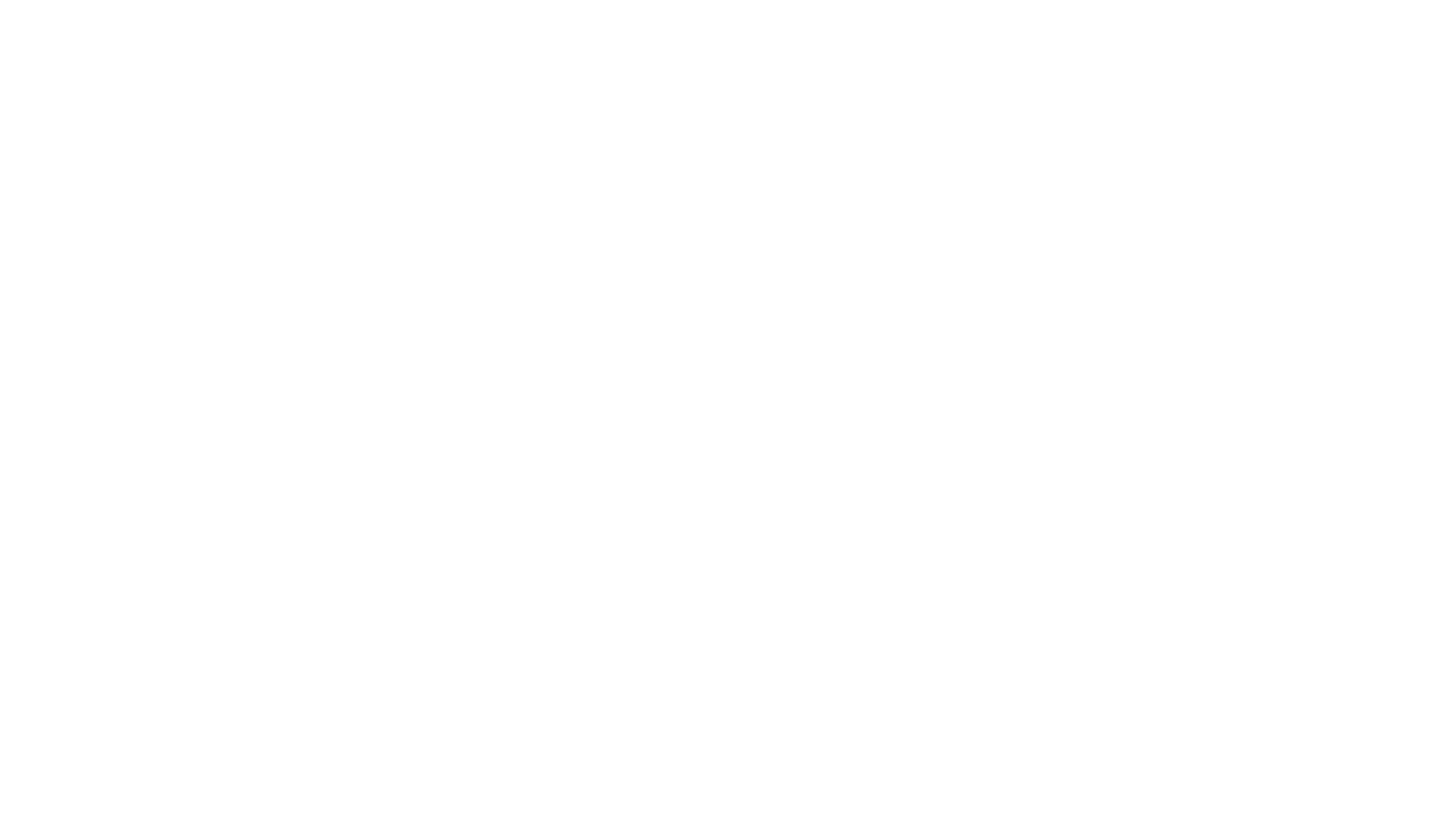
Проходя вдоль первого выставочного зала, рядом с поздними, наполненными надеждой акварелями, вы столкнётесь с этой внутренней болью художника — в абсолютном большинстве его работ. А уже за стеной, в большом выставочном зале, вас будет ждать картина, посвящённая депортации — «Никто не хотел умирать» (2008). Тонкая, честная, немногословная. На мгновение забирающая землю из-под ног. А рядом — не случайно — портрет самого художника.
На противоположной стене, скромно, не привлекая лишнего внимания, представлена работа «Запомни виноград молодым» (1994). Она будто продолжает тему депортации, но уже для более узкого круга зрителей.
Перед нами сложная композиция, где архитектурные фрагменты, природные элементы и фигуры людей переплетаются в единое, тревожное полотно. На переднем плане — молодая семья. Их образы — лицо народа, потерянного во времени, прижатого к стене истории. Интересно, как в этой работе автор уходит от буквального повествования: он не прописывает триггерных деталей депортации. Вместо этого — обломки архитектуры, дикие растения и потерянные в этом хаосе люди. Как и всегда, дом для Нетовкина становится носителем памяти. Но здесь память эта — фрагментарна и ускользает. Почти как в его знаменитой работе «Сары-Су» (1999).
Фраза в названии — «Запомни виноград молодым» — звучит как наставление, пронесённое через целое поколение, на протяжении полувека хранящее в памяти природу раннего мая. И виноград — как метафора родины, корней, юности, и в то же время боли и обречённости в их утрате. В этой работе Нетовкин говорит почти шёпотом. Но именно в этой сдержанности — сила.
На противоположной стене, скромно, не привлекая лишнего внимания, представлена работа «Запомни виноград молодым» (1994). Она будто продолжает тему депортации, но уже для более узкого круга зрителей.
Перед нами сложная композиция, где архитектурные фрагменты, природные элементы и фигуры людей переплетаются в единое, тревожное полотно. На переднем плане — молодая семья. Их образы — лицо народа, потерянного во времени, прижатого к стене истории. Интересно, как в этой работе автор уходит от буквального повествования: он не прописывает триггерных деталей депортации. Вместо этого — обломки архитектуры, дикие растения и потерянные в этом хаосе люди. Как и всегда, дом для Нетовкина становится носителем памяти. Но здесь память эта — фрагментарна и ускользает. Почти как в его знаменитой работе «Сары-Су» (1999).
Фраза в названии — «Запомни виноград молодым» — звучит как наставление, пронесённое через целое поколение, на протяжении полувека хранящее в памяти природу раннего мая. И виноград — как метафора родины, корней, юности, и в то же время боли и обречённости в их утрате. В этой работе Нетовкин говорит почти шёпотом. Но именно в этой сдержанности — сила.
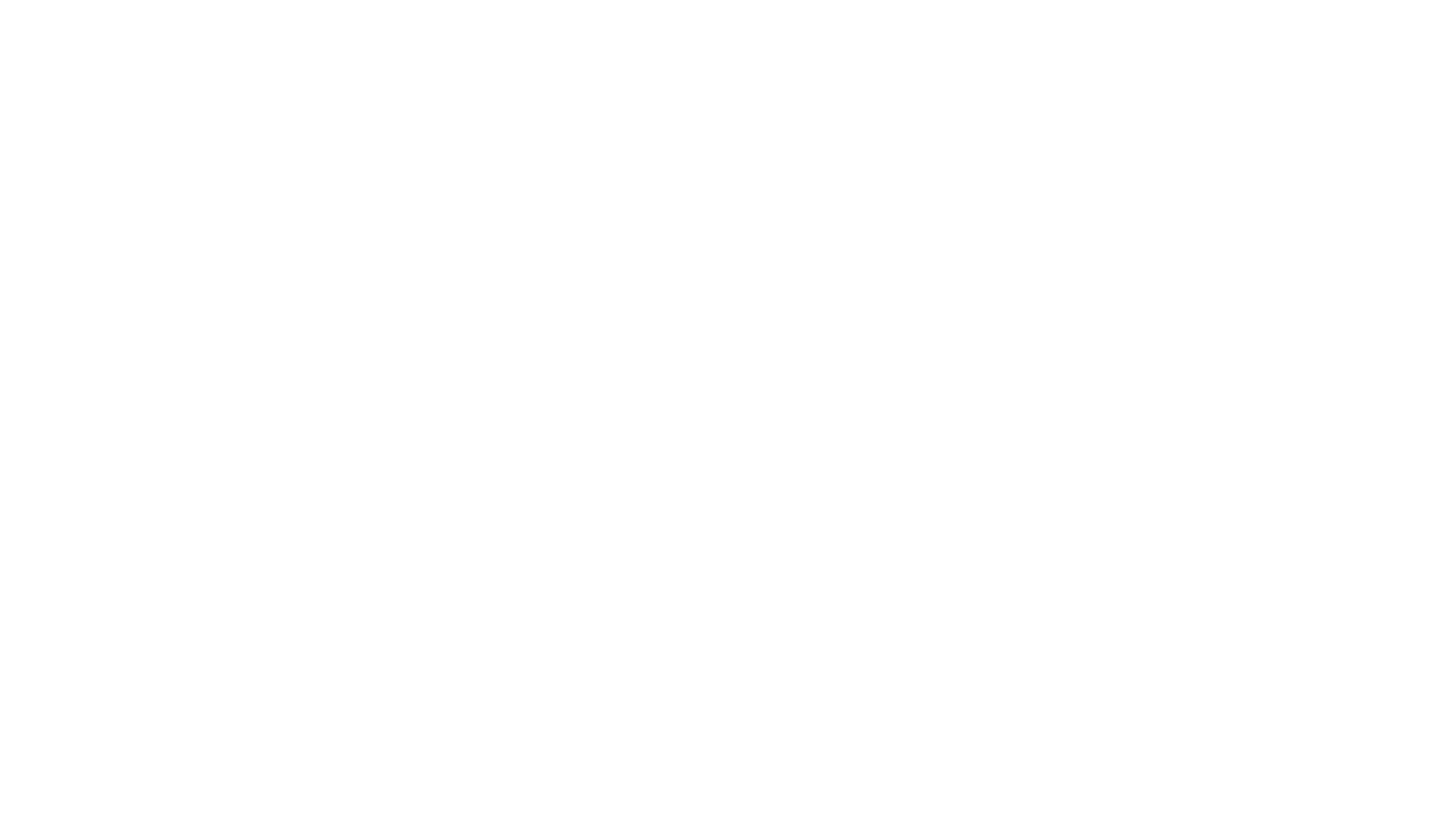
Главный зал наполнен многими узнаваемыми картинами. Среди них — «Свидание», тонко превращающее архитектурный пейзаж в ценное наследие традиций, какой-то особенно магнетический «Таракташ» (1998) и, конечно, «Гезлев» с его улицами, в которых отображается неповторимая атмосфера таинственного степного города. Однако центральное место здесь всё же занимает жемчужина творчества Нетовкина — Къарасувбазар.
Сегодня мы воспринимаем имя художника как синоним этого города, однако, по его словам, он полноценно открыл его для себя только в 28 лет. Это город, в котором он жил и писал как мы видим с юности — «По улице старого Белогорска» (1987), но лишь объездив и увидев весь Крым, смог понять дух Карасувбазара — города, во многом утратившего свою историю, но не величие. Миниатюрные улочки, одноэтажные дома и неповторимое ощущение покоя.
Для Нетовкина архитектура никогда не была декорацией: каждый его город проявляется через свой характерный голос, не превращаясь в единое «древнее наследие». Однако именно Карасувбазар художник стремился раскрыть во всём его многообразии: взгляните на все картины, представленные на выставке, он не просто запечатлевал этот город в моменте, как это было с Бахчисараем, а представляя ретроспективу, хотел показать его таким, каким нам уже никогда не увидеть — и таким, каким его мог видеть только он.
Карасувбазар художника — не спокойное предместье, а большой шеер с богатым прошлым. И порой, когда в его работах город виделся зрителю уж слишком столичным, художник подмечал: «Бахчисарая ещё не было, когда Карасувбазар был вот таким». А ведь и правда.
Сегодня мы воспринимаем имя художника как синоним этого города, однако, по его словам, он полноценно открыл его для себя только в 28 лет. Это город, в котором он жил и писал как мы видим с юности — «По улице старого Белогорска» (1987), но лишь объездив и увидев весь Крым, смог понять дух Карасувбазара — города, во многом утратившего свою историю, но не величие. Миниатюрные улочки, одноэтажные дома и неповторимое ощущение покоя.
Для Нетовкина архитектура никогда не была декорацией: каждый его город проявляется через свой характерный голос, не превращаясь в единое «древнее наследие». Однако именно Карасувбазар художник стремился раскрыть во всём его многообразии: взгляните на все картины, представленные на выставке, он не просто запечатлевал этот город в моменте, как это было с Бахчисараем, а представляя ретроспективу, хотел показать его таким, каким нам уже никогда не увидеть — и таким, каким его мог видеть только он.
Карасувбазар художника — не спокойное предместье, а большой шеер с богатым прошлым. И порой, когда в его работах город виделся зрителю уж слишком столичным, художник подмечал: «Бахчисарая ещё не было, когда Карасувбазар был вот таким». А ведь и правда.
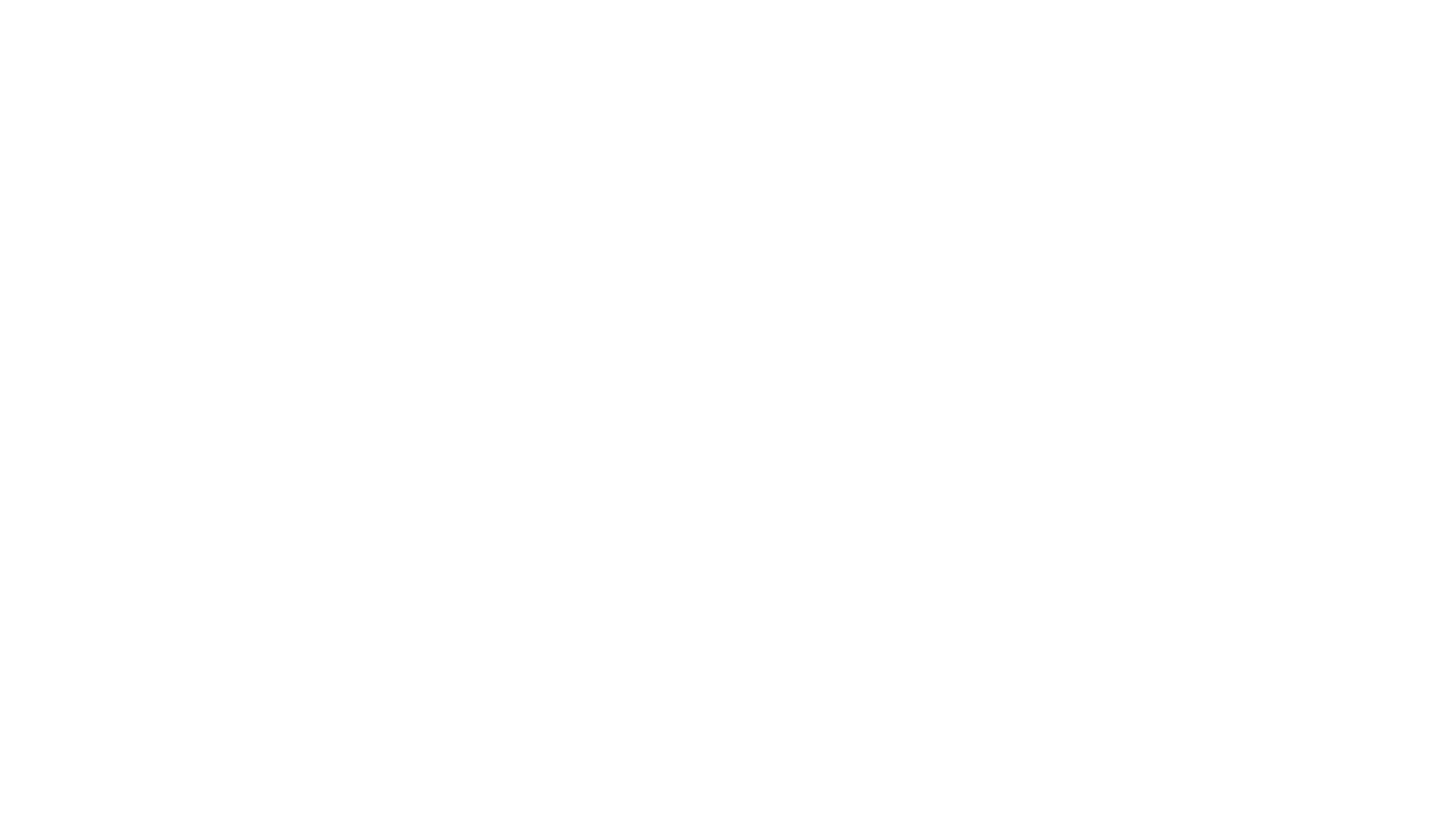
Проходя сквозь небольшой проход к музейному залу, важно не упустить ещё одну картину. Небольшая работа «Гончар» (1997), написанная с известного крымскотатарского чёльмекчи Шамиля Ильясова. Основатель «Золомана», коллекционер Айдер Халилов, поделился историей, что работа долгое время хранилась у Шамиля Ильясова, и недавно он передал её в дар музею. Глядя на трепетное изображение труда ремесленника, невольно появляется новый взгляд на творчество самого Нетовкина. Ведь он сам будто продолжатель традиций дворцовых художников, работавших ещё при Гераях. Сейчас мы почти ничего не знаем об этом ремесле, но они были — и, подобно нашему современнику, выводили графику, уподобляя каждый штрих арабской вязи, и с тем же почтением изображали архитектуру: зарисовывая так, чтобы передать поколениям в миру, где ещё не существовало всех этих фотокарточек. Их наследие мы полностью утратили, но какое счастье, что с нашей культурой случился «Утраченный Крым» Рамиза Нетовкина.
Поколение, рождённое в Крыму, наверное, никогда и не слышало об этом альбоме — «Утраченный Крым», разве что вы не закончили училище Самокиша. К слову, выпускником живописного отделения которого и был Нетовкин. Это альбом работ, посвящённых Крыму, выпущенный в 1991 году — тогда, когда в культурном пространстве крымскотатарского Крыма не существовало. Этот альбом, одна из первых ласточек, стал значимым не только для зрителя, но и для самого художника.
Через пару лет после этого он получит приглашение в Польшу — написать в своём неповторимом стиле польские города. И успешно выпустит альбом «Люблин — Крым», который как художественно, так и культурно введёт его (нас) в европейский художественный контекст. Потом последует отдельный альбом о Бахчисарае в 1999 году и приглашение написать один из турецких городов, для нового альбома, что вышел под названием «Кастамону — Бахчисарай». В культурной хронике тех лет Нетовкин внезапно стал художником, высоко ценимым за границей. И, возможно, более понятым там, чем здесь.
К большому сожалению, не наступило время альбома о Карасувбазаре. Представленого с редким для нашего взора архитектурным изыском, в него могла войти и работа, где был запечатлён обычный карасувбазарский дом, в котором около года прожил крымский хан Каплан Герай после сожжения бахчисарайского дворца. Вангуем, такой альбом предвещал бы диалог уровня Карасувбазар — Прага или Карасувбазар — Париж. Не случилось.
Через пару лет после этого он получит приглашение в Польшу — написать в своём неповторимом стиле польские города. И успешно выпустит альбом «Люблин — Крым», который как художественно, так и культурно введёт его (нас) в европейский художественный контекст. Потом последует отдельный альбом о Бахчисарае в 1999 году и приглашение написать один из турецких городов, для нового альбома, что вышел под названием «Кастамону — Бахчисарай». В культурной хронике тех лет Нетовкин внезапно стал художником, высоко ценимым за границей. И, возможно, более понятым там, чем здесь.
К большому сожалению, не наступило время альбома о Карасувбазаре. Представленого с редким для нашего взора архитектурным изыском, в него могла войти и работа, где был запечатлён обычный карасувбазарский дом, в котором около года прожил крымский хан Каплан Герай после сожжения бахчисарайского дворца. Вангуем, такой альбом предвещал бы диалог уровня Карасувбазар — Прага или Карасувбазар — Париж. Не случилось.
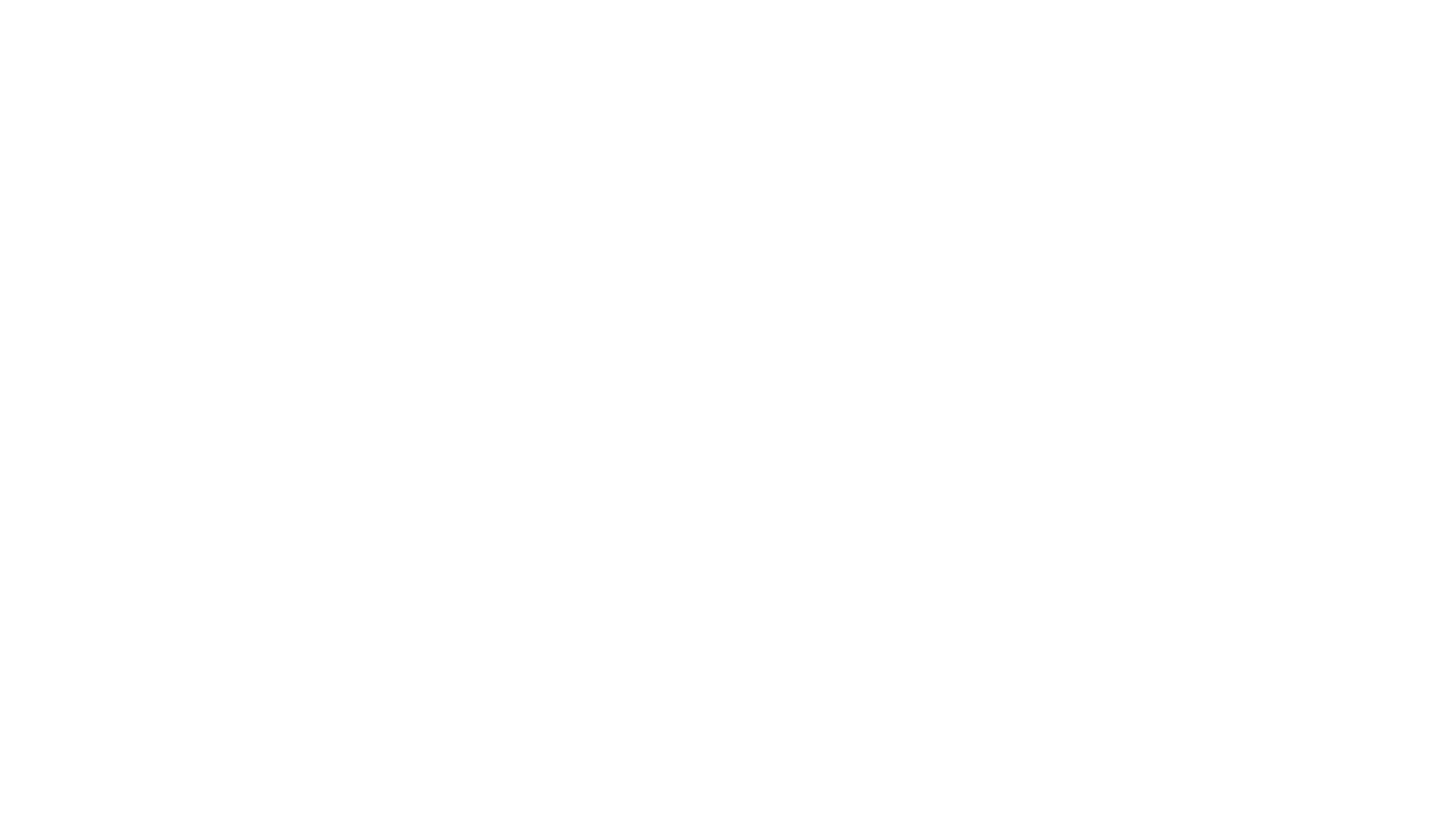
В памяти многих зрителей работы Нетовкина ассоциируются с периодом начала 2000-х, когда они украшали стены ханского дворца. И кажется, именно тогда художник раскрылся для массового крымского зрителя. Поэтому вызывает особый трепет наблюдать картины, представленные в музейном зале. Здесь эта выставка ощущается по-особенному ностальгично, и хочется остановиться у многих работ, рассматривая технику и изучая сюжетные фрагменты. Наиболее хочется выделись мотивы наших сел — «Къутлакъ» с живой водой и домик в «Ени-Сала».
И как всегда бывает на выставках в «Золоман», поднимаясь по лестнице наверх, к четвёртому залу, появляется ощущение некого особенного предвкушения. На этот раз в центре зала, на мольберте, представлена последняя незаконченная картина художника. Едва рассматривая столь значимую работу, взгляд тянется всё дальше.
В этом зале хорошо представлена поздняя графика художника с чётко прорисованными деталями домов. Нетовкин в конце 2010-х словно начал отходить от лирического образа к более строгому, немного научному прочтению архитектуры. И здесь вновь в голове всплывает образ ремесленника, день за днём оттачивающего своё мастерство. Осматривая общую сюжетность картин, взгляд вновь цепляется за узнаваемую работу — ханские дюрбе, обрамлённые в стиле старых мусульманских художественных традиций. «А это наверное, что-то из раннего», — в мгновение подумалось, — 1988 год, разумеется.
И как всегда бывает на выставках в «Золоман», поднимаясь по лестнице наверх, к четвёртому залу, появляется ощущение некого особенного предвкушения. На этот раз в центре зала, на мольберте, представлена последняя незаконченная картина художника. Едва рассматривая столь значимую работу, взгляд тянется всё дальше.
В этом зале хорошо представлена поздняя графика художника с чётко прорисованными деталями домов. Нетовкин в конце 2010-х словно начал отходить от лирического образа к более строгому, немного научному прочтению архитектуры. И здесь вновь в голове всплывает образ ремесленника, день за днём оттачивающего своё мастерство. Осматривая общую сюжетность картин, взгляд вновь цепляется за узнаваемую работу — ханские дюрбе, обрамлённые в стиле старых мусульманских художественных традиций. «А это наверное, что-то из раннего», — в мгновение подумалось, — 1988 год, разумеется.
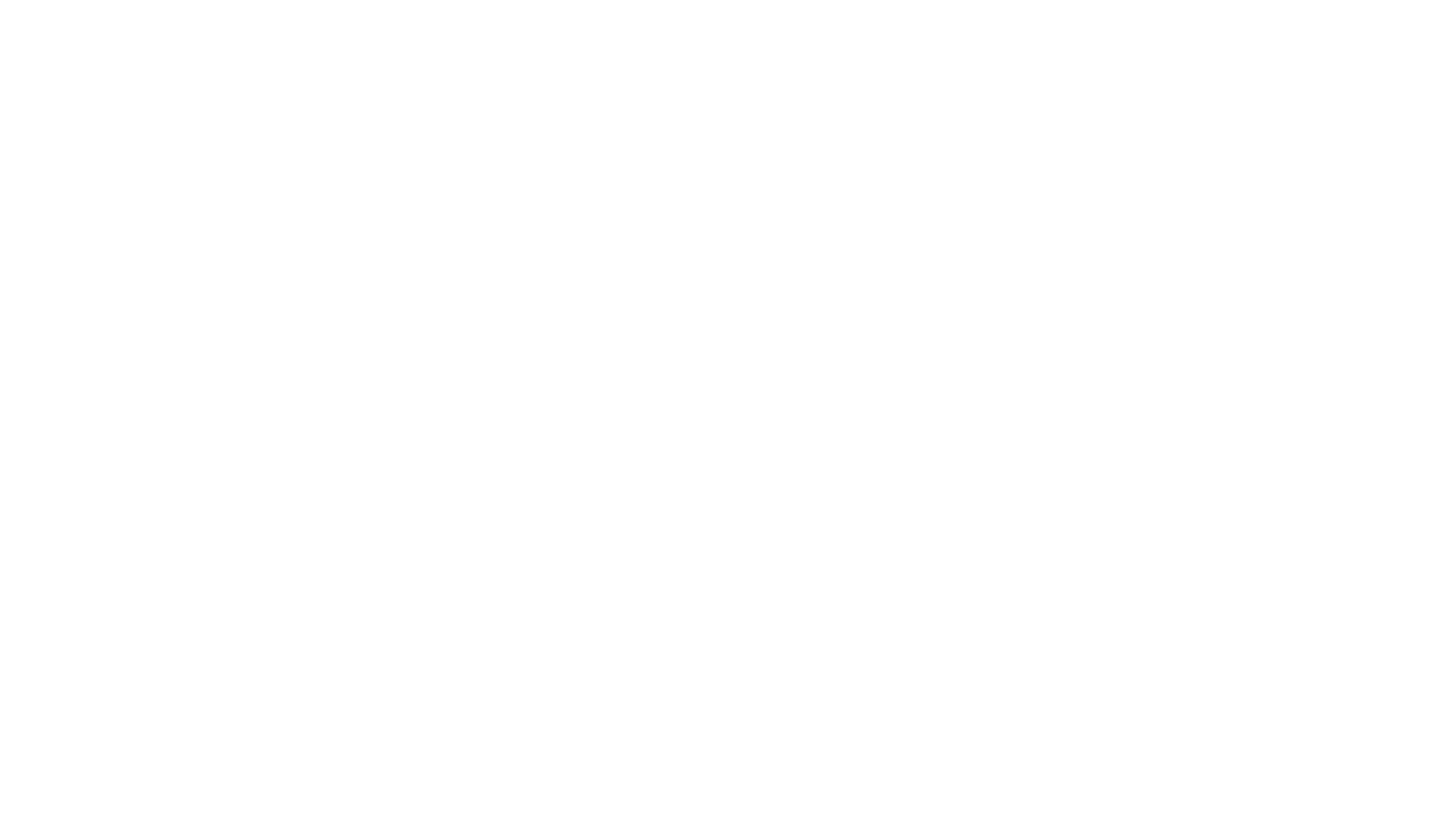
В многообразии более 70 картин, представленных на выставке, на редкость есть что сказать о каждой из них. В них одинаково увлекают и техника, почти неподвластная новому поколению графиков, и необычайное художественное видение, и не менее важное — титаническое трудолюбие.
В работах Рамиза Нетовкина, даже самый скромный, затерянный в переулках дом становится значимым и видится нам величным сараем — вновь обретая историю, внимание и шанс быть увиденным, а не забытым. Каждый архитектурный фрагмент, каждое окно или изгиб крыши у него — это не просто деталь, а знак, несущий память. Художник знал историю всех мест, которые писал и пересматривая старые работы все чаще повторял "А вот этого дома уже нет, его снесли..". И несмотря на то, что дом исчез с улиц города, он все же продолжает жить на белых листах. "Вот, ради этого и стоило этим заниматься" говорил художник, добавляя "и дай Бог каждому художнику этим заниматься".
Хочется дополнить "дай Аллах каждому художнику этого благословенного чувства, что пройденный путь стоил того". Подобно своим городам, Рамиз Нетовкин продолжает жить в этих домах, картинах и в памяти тысяч благодарных зрителей.
Аллахын рахметинде олунъыз, уста.
В работах Рамиза Нетовкина, даже самый скромный, затерянный в переулках дом становится значимым и видится нам величным сараем — вновь обретая историю, внимание и шанс быть увиденным, а не забытым. Каждый архитектурный фрагмент, каждое окно или изгиб крыши у него — это не просто деталь, а знак, несущий память. Художник знал историю всех мест, которые писал и пересматривая старые работы все чаще повторял "А вот этого дома уже нет, его снесли..". И несмотря на то, что дом исчез с улиц города, он все же продолжает жить на белых листах. "Вот, ради этого и стоило этим заниматься" говорил художник, добавляя "и дай Бог каждому художнику этим заниматься".
Хочется дополнить "дай Аллах каждому художнику этого благословенного чувства, что пройденный путь стоил того". Подобно своим городам, Рамиз Нетовкин продолжает жить в этих домах, картинах и в памяти тысяч благодарных зрителей.
Аллахын рахметинде олунъыз, уста.
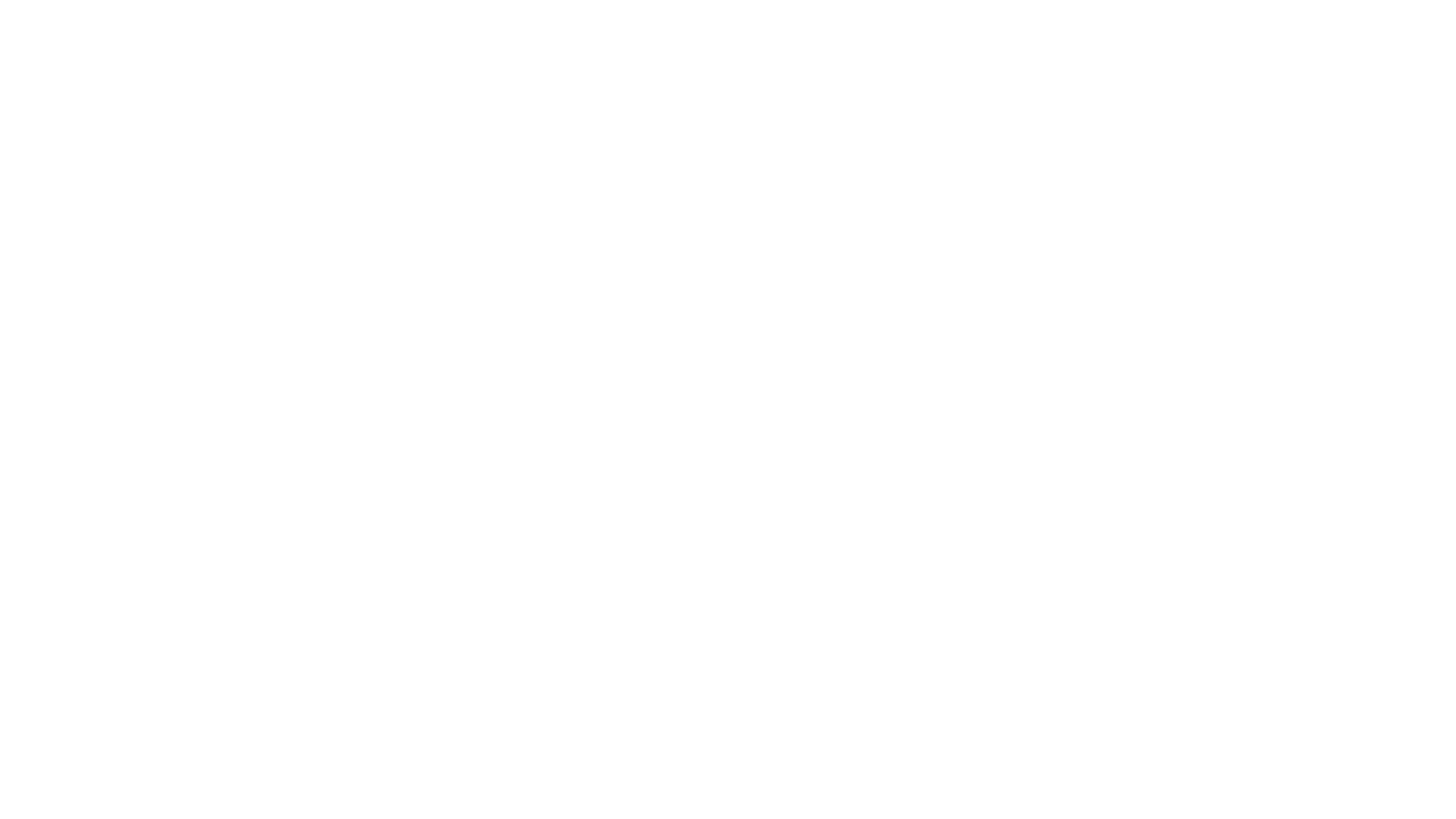
Иллюстрации к статье: работы фотографа Бейе Шевкиевой. Больше фото с открытия выставки смотрите на сайте.
В тексте использованы цитаты из интервью художника в 2011 году. Ознакомиться с полным видео можно здесь.
Открытие выставки к 65-летию художника прошло 21 июня 2025 года частном музее Айдера Халилова "Zolaman".
Материал не спонсирован и выражает личное мнение автора.
Автор статьи: культуролог Асанова Эвелина.


