blog gazeta
Персональная выставка Асана Бараша в Zolaman
Уже сложилась особая традиция, что каждый новый сезон круги почитателей собираются на выставках художника Асана Бараша. Основатель музея Zoloman Айдер Халилов — давний поклонник его творчества, внимательно следит за развитием стиля мастера и старается сразу представлять публике новые работы. Тем самым помогая зрителям не просто наблюдать путь современника, но и идти рядом с ним, отзываясь на тихие интонации. Попробуем их услышать?
Незадолго до открытия, было негласно анонсировано, что художник пребывает в новом этапе творчества — он отходит от привычных нам форм человеческих персонажей и готов представить новые образы. В этом можно заметить и мусульманскую традицию не изображать людей, но что более вероятно — стремление обратиться не к внешнему облику, а к самой сути, к внутреннему миру своих героев. Для этих работ Бараш снова выбрал масштабные холсты и наполнил их узнаваемым буйством цвета, который уравновесил уже характерными нотками экзистенциализма.
Известный фотохудожник Рифхат Якубов на открытии выставки вспомнил размышления Пабло Пикассо в беседе с французским мастером фотографии Брассаем. Впечатлённый снимком Брассая «Ночной Париж», уже в 1930-е годы Пикассо отметил, что реалистическая живопись исчерпала себя, и каждый художник должен выражать не внешний мир, а собственный — обращаясь внутрь себя и перенося на холст ассоциации и образы, рожденные его душой. В этих словах можно найти ключ к пониманию творчества Асана Бараша. Анализировать его живопись всегда непросто: художественный язык мастера настолько плотен и выразителен, что любые слова кажутся лишь отголоском уже сказанного им на холсте. Но именно это делает его искусство ещё более увлекательным.
На выставке в каждом зале зрителя встречают полотна-доминанты, наполненные рефлексиями последних лет и вступающие в живой диалог с более ранними работами художника. Зачастую мы начинали осмотр с малого крайнего зала, но в этот раз стоит начать знакомство с небольшого музейного пространства. Здесь представлены сразу две новые картины мастера, каждая из которых погружает в свой уникальный опыт.
Известный фотохудожник Рифхат Якубов на открытии выставки вспомнил размышления Пабло Пикассо в беседе с французским мастером фотографии Брассаем. Впечатлённый снимком Брассая «Ночной Париж», уже в 1930-е годы Пикассо отметил, что реалистическая живопись исчерпала себя, и каждый художник должен выражать не внешний мир, а собственный — обращаясь внутрь себя и перенося на холст ассоциации и образы, рожденные его душой. В этих словах можно найти ключ к пониманию творчества Асана Бараша. Анализировать его живопись всегда непросто: художественный язык мастера настолько плотен и выразителен, что любые слова кажутся лишь отголоском уже сказанного им на холсте. Но именно это делает его искусство ещё более увлекательным.
На выставке в каждом зале зрителя встречают полотна-доминанты, наполненные рефлексиями последних лет и вступающие в живой диалог с более ранними работами художника. Зачастую мы начинали осмотр с малого крайнего зала, но в этот раз стоит начать знакомство с небольшого музейного пространства. Здесь представлены сразу две новые картины мастера, каждая из которых погружает в свой уникальный опыт.
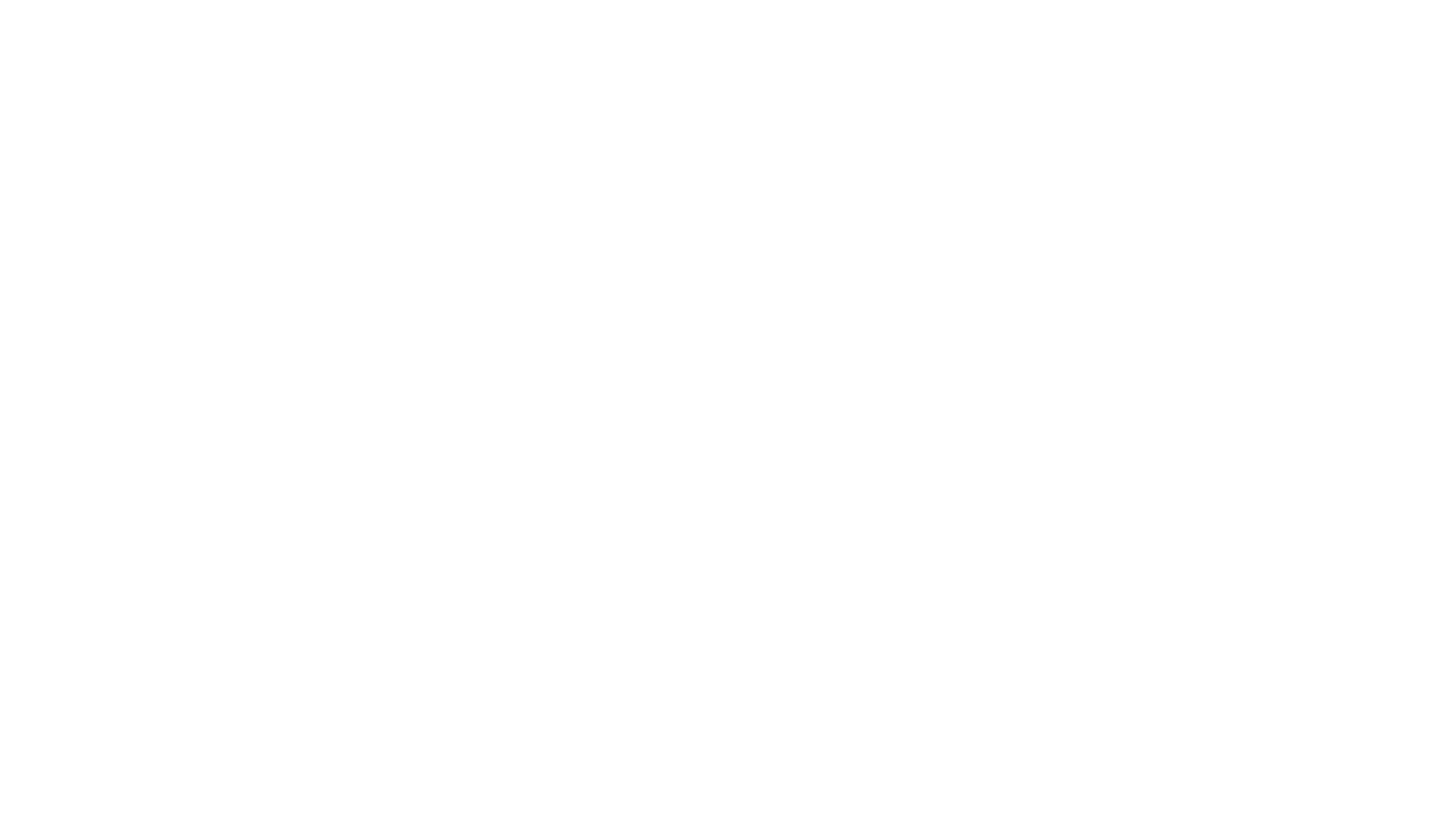
Монументальное полотно «Къырмызы копеклер» — безусловно одно из знаковых произведений выставки. Перед зрителем предстает сцена противостояния двух агрессивных существ, чьи первобытные инстинкты прорываются наружу. Во внешнем облике художник будто лишает их цельности, соединяя несочетаемые черты — приём, уходящий к мифологической традиции, где злые силы изображались как гибридные, чуждые природе существа, способные лишь к разрушению. Это столкновение словно укрыто обессиленно склонившимися, обезличенными фигурами людей. Они напоминают тени, за которыми разворачивается драма стихийных сил. И в этом хоре трагических фигур видны отголоски полотен, представленных в других залах выставки — «Одуванчики» и «Подвешенные», где мы встречаем схожих персонажей. Все они лишены опоры, подвешены между небом и землёй, застыв в неизменном положении, превращаясь в символ жертвенности и обречённости.
Можно предположить, что и в новой картине, художник размышляет о том, как в современном мире варварские инстинкты вновь обретают силу, а человеческое — напротив — оказывается обездвиженным, обессиленным и лишённым корней. Тончайшая проработка образов и их эмоциональная напряжённость словно заглушает голос, не оставляя места для громких обсуждений, принимая лишь тишину, звучащую как аплодисменты.
Можно предположить, что и в новой картине, художник размышляет о том, как в современном мире варварские инстинкты вновь обретают силу, а человеческое — напротив — оказывается обездвиженным, обессиленным и лишённым корней. Тончайшая проработка образов и их эмоциональная напряжённость словно заглушает голос, не оставляя места для громких обсуждений, принимая лишь тишину, звучащую как аплодисменты.
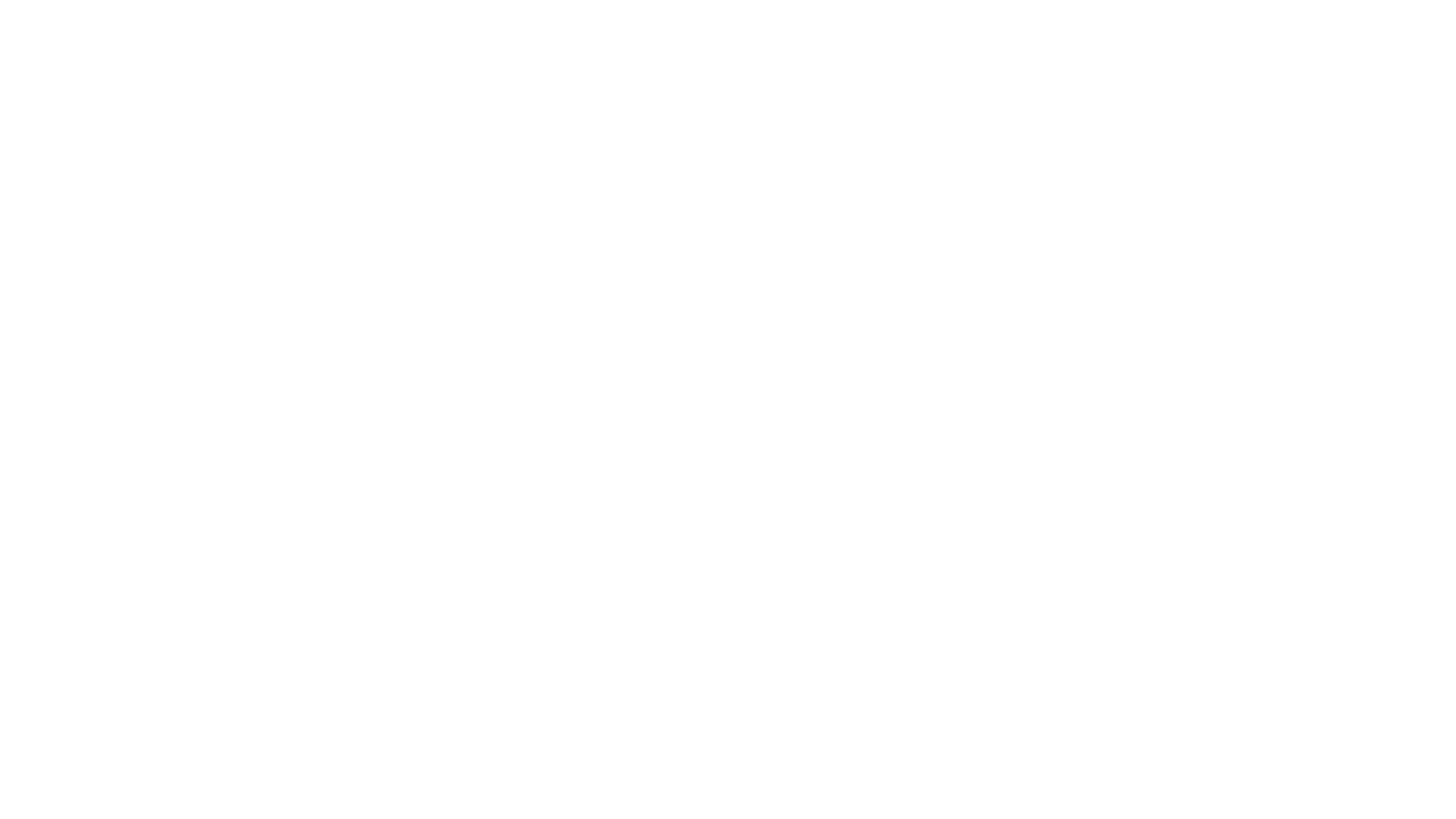
А на противоположной стене представлен гимн материнству — картина «Аналыкъ» (2025). Работа довольно неожиданная и очень смелая. Художник здесь обращается к архаичному образу женщины и, кажется, впервые в нашей художественной культуре позволяет себе столь открыто исследовать это явление. В его подходе ощущается созвучие с великими мастерами: на рубеже XVIII–XIX веков Поль Сезанн в «Купальщицах» (1900) отказался от академической объективизации женского образа и представил его в гармонии с природой, а через несколько лет Пикассо в «Авиньонских девицах» (1907) радикализирует этот процесс, экспериментируя с формой и обращаясь к этническому примитивизму, представляя образы несущие первобытную силу.
Внутри крымскотатарской традиции похожая линия прослеживается в работе «Аналыкъ»: женский образ здесь воспринимается в тотемном ключе и выполнен в стиле наскальных рисунков. Если Сезанн и Пикассо десятилетиями освобождали своих героинь от кринолина, то Бараш мастерски быстро перешёл от феса к работе с формой и внутреннем состоянием. И хотя художник лишил своих героинь привычной национальной принадлежности, мы продолжаем видеть в них визуальную метафору крымскотатарского опыта, где женщина — хранительница памяти, символ материнства и жертвенности. Это созвучно современной культуре, голос которой отражён в лозунге «Дёрт бизим къутараджак», где мать, как и в древних цивилизациях, несёт в себе образ надежды и силы — оставаясь фигурой, сохраняющей традицию, язык и жизнь в условиях исторических потрясений.
Внутри крымскотатарской традиции похожая линия прослеживается в работе «Аналыкъ»: женский образ здесь воспринимается в тотемном ключе и выполнен в стиле наскальных рисунков. Если Сезанн и Пикассо десятилетиями освобождали своих героинь от кринолина, то Бараш мастерски быстро перешёл от феса к работе с формой и внутреннем состоянием. И хотя художник лишил своих героинь привычной национальной принадлежности, мы продолжаем видеть в них визуальную метафору крымскотатарского опыта, где женщина — хранительница памяти, символ материнства и жертвенности. Это созвучно современной культуре, голос которой отражён в лозунге «Дёрт бизим къутараджак», где мать, как и в древних цивилизациях, несёт в себе образ надежды и силы — оставаясь фигурой, сохраняющей традицию, язык и жизнь в условиях исторических потрясений.
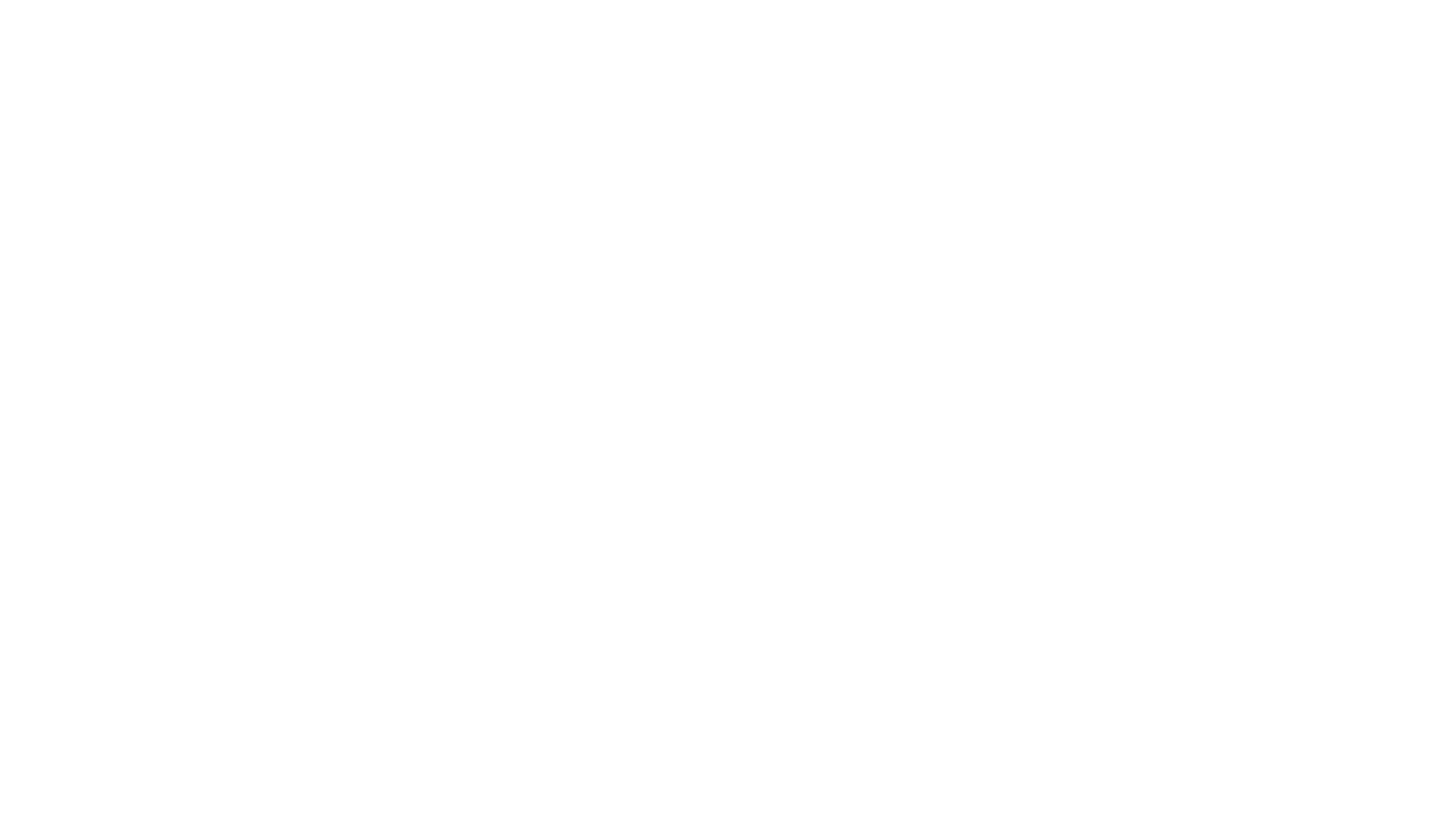
Так сложилось, что в нашем искусстве образ матери чаще звучит в трагических тонах. Примером может служить представленная в центральном зале картина «Ожидание» (2023), где изображена пожилая женщина, с надеждой смотрящая в даль. Похожие образы часто встречаются и в фольклоре, и учитывая цикличность событий, они не теряли актуальности, оставаясь понятными и близкими для многих поколений. «Аналыкъ» же предлагает совершенно новый взгляд на женский образ в нашей культуре: освобождённый от шаблонов, наполненный иронией и смелостью композиционных решений. Если бы развитие крымскотатарского художественного искусства шло параллельно европейскому, то во времена Сезанна и Пикассо, такая картина могла бы стать громогласной иллюстрацией в одном из выпусков первой в мусульманском мире женской газеты «Алем-и нисван», под руководством Шефики Гаспринской. И, конечно же, навести шуму.
Непременно, через десятки лет появятся поколения художников, которые будут наследовать этот стиль и технику, цитировать сюжеты и искать в них потайные смыслы. Сейчас же, мы имеем уникальную возможность — первыми увидеть «Аналыкъ» и прочувствовать контекст времени и обстоятельств, побудивших художника создать это полотно.
Непременно, через десятки лет появятся поколения художников, которые будут наследовать этот стиль и технику, цитировать сюжеты и искать в них потайные смыслы. Сейчас же, мы имеем уникальную возможность — первыми увидеть «Аналыкъ» и прочувствовать контекст времени и обстоятельств, побудивших художника создать это полотно.
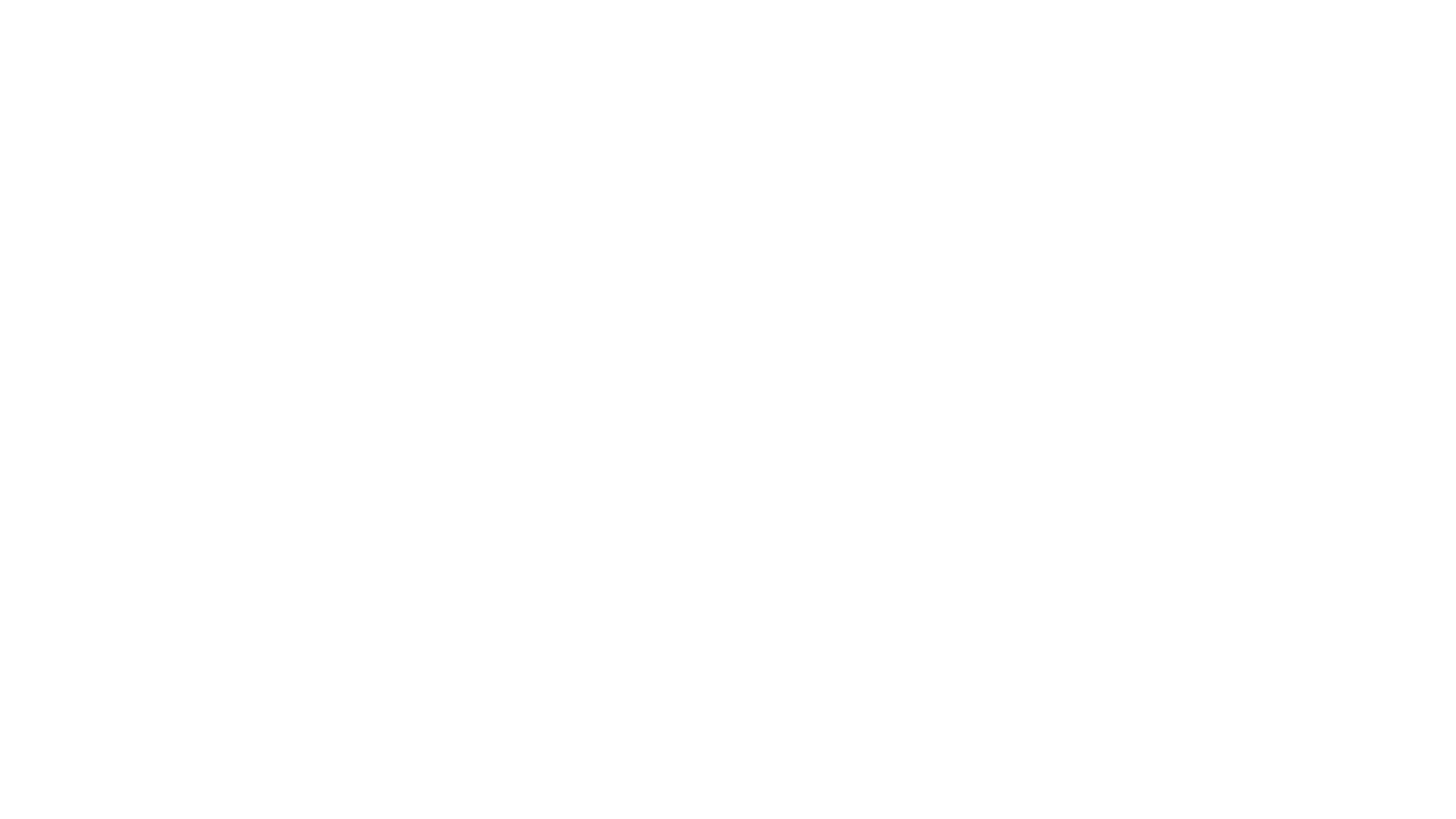
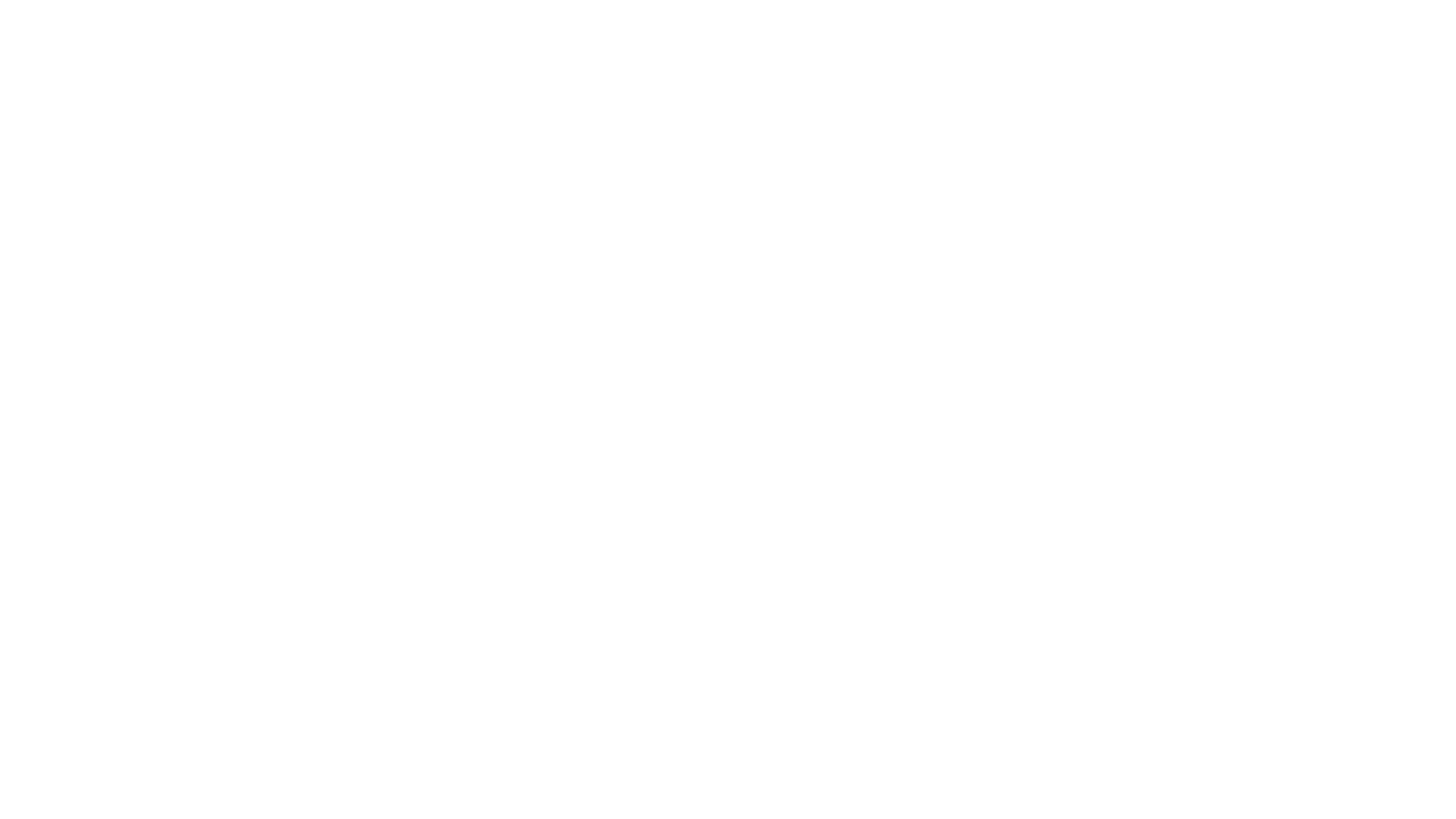
Рядом представлена уже упомянутая работа «Подвешенные» (1997). Мотив этих персонажей возникает в картинах художника на протяжении разных периодов, но каждый раз обретает иную тональность. На первый взгляд фигуры напоминают сказочных героев, словно сошедших со страниц детской книги с предсказуемо счастливым финалом. Но внимательное рассмотрение деталей разрушает иллюзию: перед нами не сказка, а быль.
Малый зал открывается двумя ключевыми произведениями. В центре — картина «Без слов» (или «Автопортрет», как называет её сам автор). Сюжет можно описать как образ художника, преклонившего колени перед зрителем и погружающего голову в собственное полотно, словно отдавая себя на суд публики. Очень искренняя и буквально вечная работа, которая отзовется каждому вне времени и культурных устоев — без слов. Часто можно услышать, что Асан Бараш не любит раскрывать смысла своих картин, но ведь в каждой из них, как и здесь, мы видим сполна раскрытую душу художника. Разве этого мало?
Малый зал открывается двумя ключевыми произведениями. В центре — картина «Без слов» (или «Автопортрет», как называет её сам автор). Сюжет можно описать как образ художника, преклонившего колени перед зрителем и погружающего голову в собственное полотно, словно отдавая себя на суд публики. Очень искренняя и буквально вечная работа, которая отзовется каждому вне времени и культурных устоев — без слов. Часто можно услышать, что Асан Бараш не любит раскрывать смысла своих картин, но ведь в каждой из них, как и здесь, мы видим сполна раскрытую душу художника. Разве этого мало?
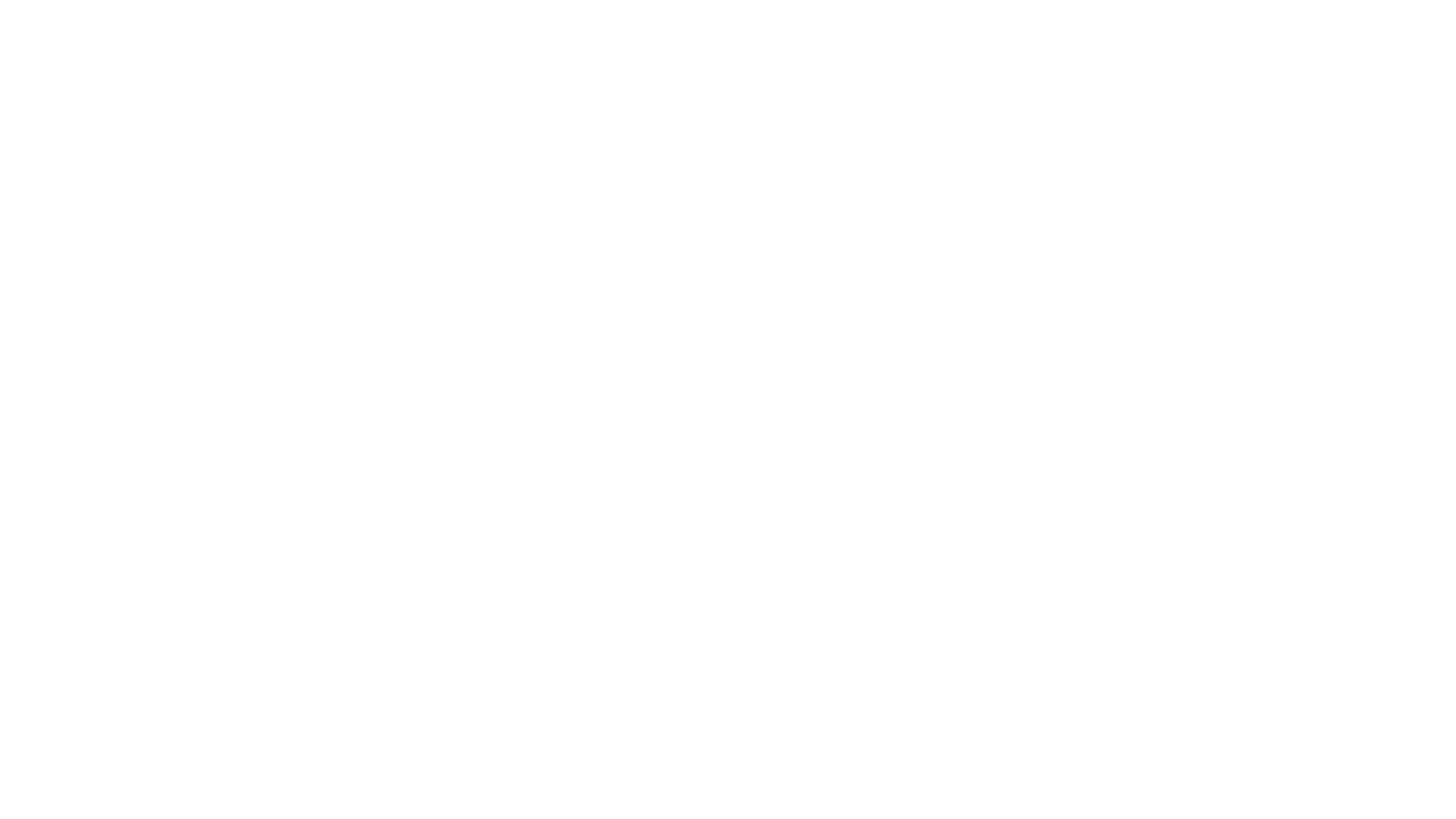
Умиротворяют атмосферу этого зала картины "Натюрморт" с букетами алого редиса и "Мелодия весны" развивающаяся маковым цветением.
Главный же акцент экспозиции зала — монументальное полотно «Нелер истейсинъиз» (2025). Здесь вновь появляются обезличенные фигуры, но уже в ином измерении: сквозь их тела проступают души, окрашенные тревогой, страхом, надломом. Эти персонажи словно пойманы в западню, а над ними нависают чёрные вороны — хищники, готовые поживиться их слабостью. Перед зрителем разворачивается универсальная драма выживания, где инстинкт хищника становится зеркалом человеческой уязвимости. Важно и то, как организовано пространство картины: стоя напротив, невозможно избежать жёстких, прожигающих взглядов воронов — зритель неизбежно становится частью этой толпы. Как заметил на открытии выставки известный журналист Шевкет Меметов, картину стоило назвать "Даа нелер истейсинъиз", что более емко выражает нерв работы.
Главный же акцент экспозиции зала — монументальное полотно «Нелер истейсинъиз» (2025). Здесь вновь появляются обезличенные фигуры, но уже в ином измерении: сквозь их тела проступают души, окрашенные тревогой, страхом, надломом. Эти персонажи словно пойманы в западню, а над ними нависают чёрные вороны — хищники, готовые поживиться их слабостью. Перед зрителем разворачивается универсальная драма выживания, где инстинкт хищника становится зеркалом человеческой уязвимости. Важно и то, как организовано пространство картины: стоя напротив, невозможно избежать жёстких, прожигающих взглядов воронов — зритель неизбежно становится частью этой толпы. Как заметил на открытии выставки известный журналист Шевкет Меметов, картину стоило назвать "Даа нелер истейсинъиз", что более емко выражает нерв работы.
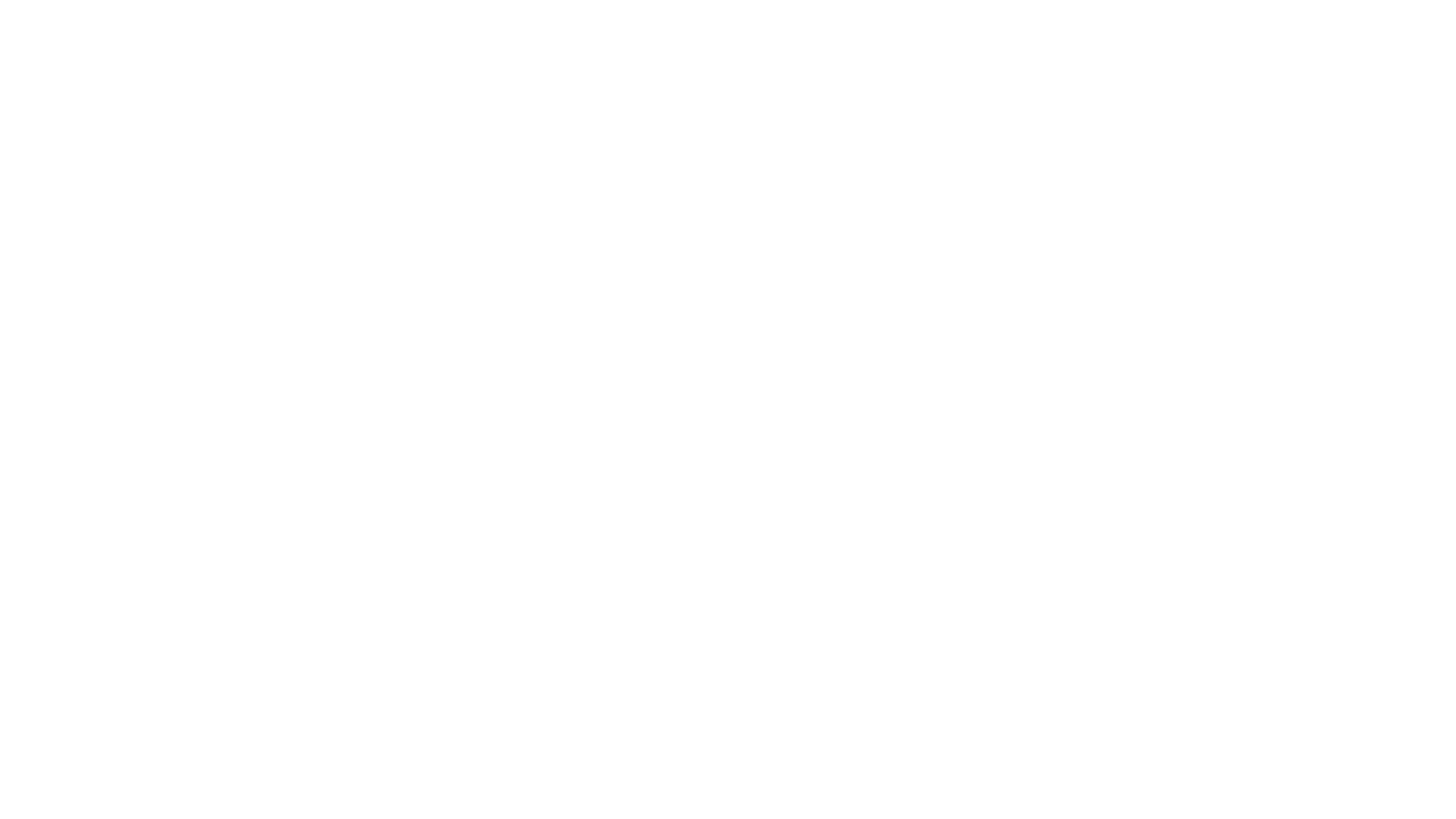
Такой предстаёт перед нами реальность в глазах художника. Однако, поднимаясь на второй этаж музея, мы оказываемся в совершенно ином пространстве его творчества. Здесь представлены более ранние работы: как те, что впервые открываются публике, так и полотна, уже ставшие знаковыми в его художественной биографии.
Мы привыкли видеть у Бараша философскую глубину и метафизический размах, но он столь же убедителен и как живописец, создающий тончайшие натюрморты и изысканно работающий с цветом. В центре экспозиции — картина «Осиное гнездо» (2023), продолжение серий «Осы» и «Рой». Эта работа буквально завораживает, позволяя зрителю вглядеться в природное явление с редкой близости. Улей переливается чистейшими оттенками золота, являя истинное богатство природы, в котором сливаются сила и хрупкость.
По соседству — «Подсолнухи», одна из картин, представленных художником около пятнадцати лет назад на выставке в США. В цветовых решениях и технике ощутимы прямые переклички с европейской живописной школой. Многие сюжеты этого периода, преимущественно 2010-х годов, ясно обращены к созерцанию и красоте окружающего мира. Это один из самых интересных этапов в творческой эволюции художника. В памяти невольно всплывает живопись того времени и Алима Усеинова: кажется, что оба мастера словно на время отступили от национальной темы, чтобы попробовать себя в языке европейской традиции. И действительно, стоя перед «Подсолнухами», легко представить их на выставках венских или парижских музеев — например, в стенах музея Леопольда, рядом с произведениями австрийского модерна.
Безусловно, каждая работа в этом зале несёт собственное настроение, формируя многоголосую линию экспозиции. В одном ряду с «Подсолнухами» и «Осиным гнездом» представлено полотно «Ангелы» (2008) — часть космической серии, где художник обращается к теме вселенной, исследуя пространство гравитаций и равновесия, притяжений и порой сопротивлений. А почти напротив, провожая зрителя к выходу, — «Одуванчики» (2013). Это произведение, уже упоминавшееся ранее, поражает этой тонкостью сюжета: хрупкая метафора становится символом трагедии целого поколения. Как художнику удалось столь деликатно выразить одним взглядом эту боль молчания наших стариков — невообразимо.
И если наша культура способна рождать таких мастеров, значит, в нашем народе и в нашем зрителе есть духовная сила и миссия донести его миру. Это высокое искусство, в котором крымскотатарский народ будет жить и звучать сквозь века.
Мы привыкли видеть у Бараша философскую глубину и метафизический размах, но он столь же убедителен и как живописец, создающий тончайшие натюрморты и изысканно работающий с цветом. В центре экспозиции — картина «Осиное гнездо» (2023), продолжение серий «Осы» и «Рой». Эта работа буквально завораживает, позволяя зрителю вглядеться в природное явление с редкой близости. Улей переливается чистейшими оттенками золота, являя истинное богатство природы, в котором сливаются сила и хрупкость.
По соседству — «Подсолнухи», одна из картин, представленных художником около пятнадцати лет назад на выставке в США. В цветовых решениях и технике ощутимы прямые переклички с европейской живописной школой. Многие сюжеты этого периода, преимущественно 2010-х годов, ясно обращены к созерцанию и красоте окружающего мира. Это один из самых интересных этапов в творческой эволюции художника. В памяти невольно всплывает живопись того времени и Алима Усеинова: кажется, что оба мастера словно на время отступили от национальной темы, чтобы попробовать себя в языке европейской традиции. И действительно, стоя перед «Подсолнухами», легко представить их на выставках венских или парижских музеев — например, в стенах музея Леопольда, рядом с произведениями австрийского модерна.
Безусловно, каждая работа в этом зале несёт собственное настроение, формируя многоголосую линию экспозиции. В одном ряду с «Подсолнухами» и «Осиным гнездом» представлено полотно «Ангелы» (2008) — часть космической серии, где художник обращается к теме вселенной, исследуя пространство гравитаций и равновесия, притяжений и порой сопротивлений. А почти напротив, провожая зрителя к выходу, — «Одуванчики» (2013). Это произведение, уже упоминавшееся ранее, поражает этой тонкостью сюжета: хрупкая метафора становится символом трагедии целого поколения. Как художнику удалось столь деликатно выразить одним взглядом эту боль молчания наших стариков — невообразимо.
И если наша культура способна рождать таких мастеров, значит, в нашем народе и в нашем зрителе есть духовная сила и миссия донести его миру. Это высокое искусство, в котором крымскотатарский народ будет жить и звучать сквозь века.
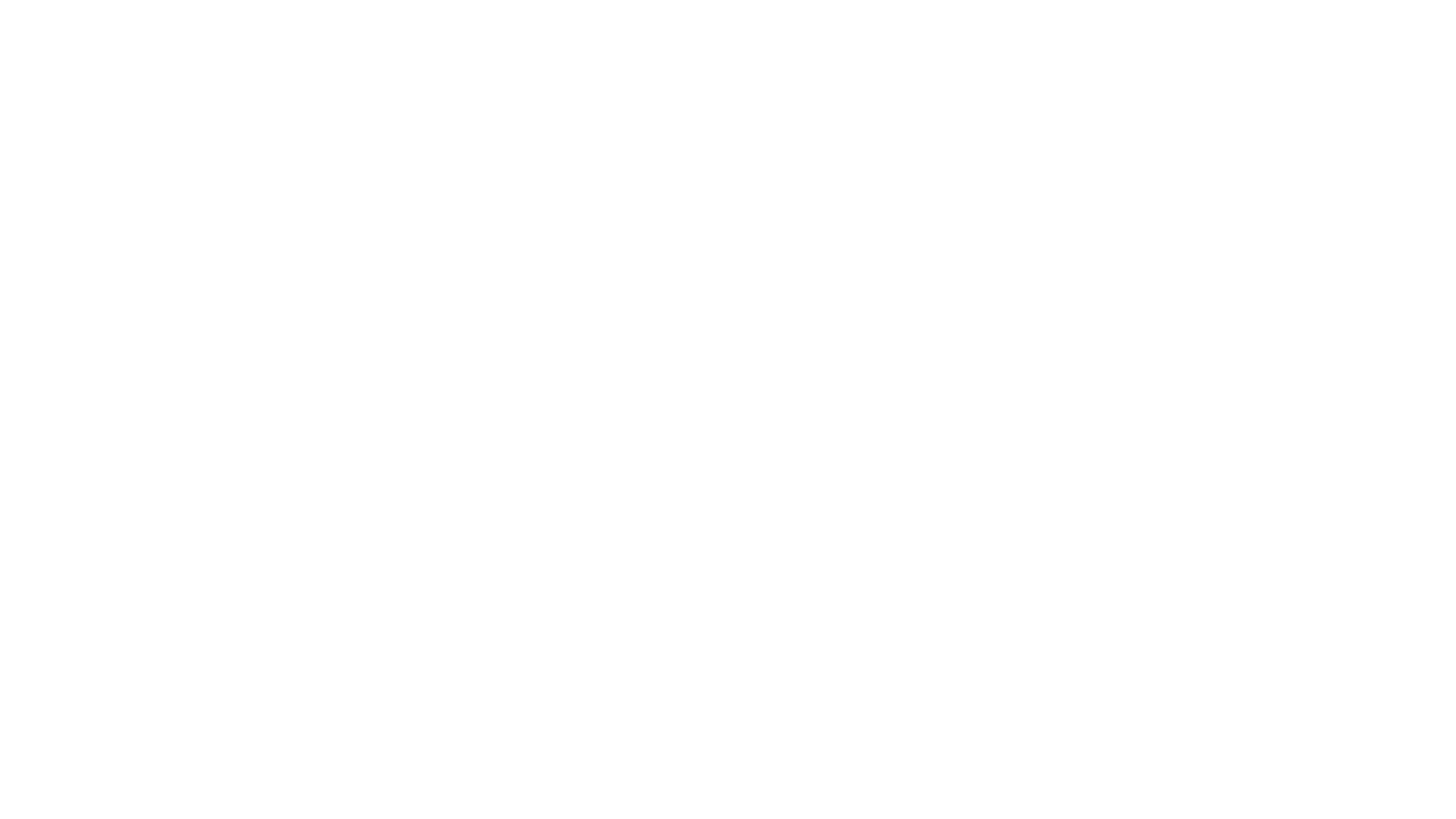
Открытие выставки художника прошло 26 июля 2025 года частном музее Айдера Халилова "Zolaman".
Материал не спонсирован и выражает личное мнение автора.
Автор статьи: культуролог Асанова Эвелина.


